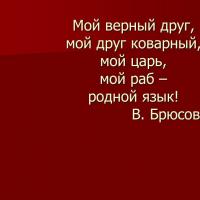Интересные истории патологоанатомов из жизни. Порядок проведения патологоанатомических вскрытий. Законодательное регулирование вскрытия
 В этом сообщении попытаюсь сопоставить отчеты патологоанатомов за три различных периода времени, прошедших со дня смерти Майкла Джексона. Как, собственно, и следовало ожидать, в течении этого времени с момента своей кончины, как и подобает настоящему ангелу и чудотворцу он сумел не только поправиться в весе на 5 килограммов, но и стать "достаточно здоровым 50-летним мужчиной" , правда при этом тело поп-короля на 3 сантиметра уменьшилось в росте, - ну да это такая мелочь по сравнению со вторым, что на нее и внимания обращать то не стоит. Итак:
В этом сообщении попытаюсь сопоставить отчеты патологоанатомов за три различных периода времени, прошедших со дня смерти Майкла Джексона. Как, собственно, и следовало ожидать, в течении этого времени с момента своей кончины, как и подобает настоящему ангелу и чудотворцу он сумел не только поправиться в весе на 5 килограммов, но и стать "достаточно здоровым 50-летним мужчиной" , правда при этом тело поп-короля на 3 сантиметра уменьшилось в росте, - ну да это такая мелочь по сравнению со вторым, что на нее и внимания обращать то не стоит. Итак:
1. ВСКРЫТИЕ ПОКАЗАЛО: МАЙКЛ ДЖЕКСОН ПЕРЕНЕС 13 ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
В понедельник, 29 июня 2009 года, стали известны некоторые подробности вскрытия.
Евгений АЗЕЕВ - 29.06.2009
Тело певца потрясло даже видавших виды патологоанатомов - такое впечатление, что Джексон в последние годы жил в концлагере. Впрочем, судите сами:
Бедра и плечи покрыты следами инъекций – как минимум три раза в день, год за годом.
Масса шрамов - коронеры насчитали следы как минимум от 13 пластических операций.
При росте в 178 см. Джексон весил около 57 килограмм, в его желудке не было ничего, кроме таблеток - певец морил себя голодом и ел только один раз в день.
У него практически не осталось волос, и ему приходилось носить парик.
Несколько сломанных ребер и 4 следа от сердечных инъекций – патологоанатомы относят на счет медиков - врачи отчаянно боролись за жизнь певца.
На голенях и локтях - синяки, происхождение которых эксперты объяснить не смогли.
Кроме того, незадолго до смерти Джексон падал на спину, сообщает The Sun
Действия кардиолога снова вызвали ряд серьезных вопросов. Например, реанимационные действия проводились на мягкой кровати, хотя по инструкции, пациент должен лежать на твердой поверхности. Пружинящий матрас мог свести на нет все усилия по реанимации.
Остается только удивляться тому, что перед смертью Майкл Джексон мог так долго и упорно репетировать. Видимо, он очень хотел выйти на сцену и попрощаться с миром. Увы, ему это не удалось. Его не стало в четверг, 25 июня. Ему было 50 лет. В состоянии комы его экстренно доставили в госпиталь Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе, но врачи оказались бессильны.
Судя по отчету экспертов, любимец миллионов жил в аду
Фото: The Sun
О, а это уже веселей:
2. ПРИЧИНА СМЕРТИ ДЖЕКСОНА - РЕЗУЛЬТАТЫ ВСКРЫТИЯ
Майкл Джексон был здоровым человеком, - результаты вскрытия
02.10.09, 11:35
Вскрытие тела Майкла Джексона показало, что он был "достаточно здоровым 50-летним мужчиной" и умер от передозировки сильнодействующих препаратов. Такое заключение сделали патологоанатомы, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.
"Его здоровье было прекрасно. Все было в пределах нормы", - сказал доктор Зив Кэйн.
Вес певца перед смертью (62 килограмма) был в приемлемом диапазоне для человека его роста - 1,75 метра, (куда подевалась анорексия и три сантиметра роста?) Его сердце, почки и большинство других органов функционировали нормально (а как же СКВ, - тоже, видимо, испарилась?).
Специалисты отмечают, что на руках певца было множество следов от уколов (и это у "здорового человека!"), на его лице и шее были травмы, брови и губы он татуировал. По данным вскрытия, у Джексона был артрит спины и нескольких пальцев и хроническое воспаление легких, однако эти болезни не могли стать причиной смерти. (Как, однако, все теперь сглаживается в отличие от первых сообщений, да и об отсутствии волос и 13 пластических операциях уже не вспоминают).
Судмедэкспертиза ранее установила, что смерть Майкла Джексона была вызвана передозировкой лекарственного препарата пропофола, применяемого для анестезии.
(видео)
3. И НАКОНЕЦ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИЧИНАХ СМЕРТИ МАЙКЛА ДЖЕКСОНА
Ъ-Online, 10.02.2010, (где, как оказалось, его убили).
Оригинал взят у gastroscan в Интервью с патологоанатомом
Вокруг патологической анатомии существует множество мифов, «страшилок» и даже анекдотов. Многие считают, что эта профессия связана только со вскрытиями и работой в морге. Это совсем не так. Патологическая анатомия и патоморфология — специальности очень интеллектуальные и значимые непосредственно для лечебного процесса. Подробно об этом рассказывает Даниил Леонидович Ротин, заведующий отделением патологической анатомии МКНЦ ДЗМ, доктор медицинских наук, врач высшей категории, член Европейского общества патологов.
— Расскажите, чем занимается патанатомия?
— Слова «патологоанатом» врачи часто стараются избегать, потому что оно ассоциируется с аутопсийной работой, обывательским «резанием трупов». Патологоанатомическое отделение в современной медицине, в отличие от распространенного мнения, не так много занимается посмертными исследованиями. Установление причин смерти и диагноза является одной из задач патанатомии, но не является ни единственной, ни приоритетной, это не какое-то «супермастерство». Основное направление нашей деятельности — это прижизненная диагностика, поскольку еще согласно никем пока не отмененному приказу Минздрава СССР весь материал, удаленный во время хирургической операции или диагностической манипуляции, должен исследоваться на морфологическом уровне. Здесь принято разделять, в первую очередь, операционный материал. Например, желудок удален во время операции по поводу онкологического заболевания, необходимо гистологически верифицировать диагноз, установить стадию заболевания, посмотреть, какое количество лимфоузлов поражено, гистогенез опухоли и так далее. Данные, полученные патоморфологом, используются онкологами для ведения и лечения оперированного пациента.
Следующим направлением работы является диагностический материал — биопсии. Биопсия при гастроскопии, биопсия при гинекологических исследованиях, например, при исследовании шейки матки, биопсия кожи и так далее. Такие исследования верифицируют диагноз и влияют на дальнейшую тактику лечения, например, нужно ли лечение, в том числе оперативное, или нет. Подобных анализов в нашем отделении выполняется от 3 до 5 десятков каждый день. Именно на специалистах, выполняющих эти исследования, и лежит ответственность за жизнь пациентов, хотя наша «служба» вроде бы не видна. Все эти исследования остаются «за кадром», с пациентом общается лечащий врач, который на их основании определяет тактику лечения.
Высший пилотаж нашей работы — это консультации, которых сейчас становится все больше. Они нужны в тех случаях, когда пациент оперировался в другом месте, и/или есть сомнения в правильности поставленного диагноза. Нам приносят стекла с препаратами из других учреждений, и мы проводим повторное исследование. Уровень специалистов везде разный. В любом цивилизованном лечебном учреждении, в том числе и в нашем, существует практика перепроверять результаты гистологического исследования, а не просто доверять описаниям из других лабораторий. Допустим, поступает женщина с образованием в яичнике, лечилась ранее от рака желудка . Что это: второй рак или метастаз? Разные исследования могут показать разные результаты, а речь идет о судьбе пациентки. Вскрытия, конечно, происходят, но достаточно редко, поскольку причина смерти часто ясна. Вскрытие нужно, например, когда есть подозрения на то, что смерть была как-то связана с хирургическим вмешательством — операцией или реанимационным пособием.
— Расскажите о вашем отделении.
— У нас сейчас 2 объединенных отделения. К сожалению, когда я их принял, они оба были не особенно хорошо оснащены: несколько микроскопов, не очень новая красящая станция, проводящая система (с ее помощью кусочек ткани проводится через «батареи» специальных реактивов). Сейчас мы, наконец, ожидаем целый набор нового самого современного оборудования для гистологической лаборатории: новую красящую систему, иммуностейнер, новую проводящую систему, микроскопы, расходные материалы и так далее.
Я пришел сюда 10 месяцев назад. За это время нами начата работа по формированию штата заинтересованных сотрудников, проведены мероприятия, позволяющие эффективно организовать работу врачей и среднего медперсонала. Вообще я считаю, что мужчина после 40 лет должен брать на себя ответственность не только за свою жизнь и жизнь своей семьи, но и еще за кого-то, поэтому руководство отделением я рассматриваю как большую честь и ответственность. Мне также очень нравится, что на новом для меня месте есть все возможности заниматься научной деятельностью (в этом году я опубликовал уже 8 статей в престижных отечественных и зарубежных журналах), чему в большой степени способствует руководство в лице директора МКНЦ — талантливого хирурга и руководителя — профессора Игоря Евгеньевича Хатькова .
— Какие методы исследования в патологической анатомии?
— В первую очередь, это морфологические исследования — то, что видишь глазом, adoculus. Прежде всего, картина различается макроскопически. Далее следует гистологическое рутинное исследование — обычные гистологические окраски. Есть окраски на бактерии, на слизь, гистохимические дополнительные окраски (например, окраска по методу Ван Гизона, на железо по Перльсу, на мукополисахариду по Крейбергу и так далее).
— Как развивается патанотомия сегодня?
— К сожалению, сейчас наша область в целом по стране находится в довольно плачевном состоянии. Может, что-то поможет сделать программа модернизации. Большое значение имеет то, что люди не особо мотивированы, они очень мало знают о специальности. Даже многие врачи на патологическую анатомию смотрят обывательским взглядом. У нас за первые 6 месяцев 2014 года было всего 100 вскрытий на 5 штатных врачей. Это довольно-таки мало. Биопсийных же исследований за это же время было 80 тысяч (1 ставка по биопсиям — 4 тысяч исследований на одного врача за год), то есть специалистов явно не хватает.
Я связываю свои надежды с тем, что сейчас появилось большое количество талантливых молодых хирургов, эндоскопистов, онкологов и других специалистов, и они видят, что без качественной морфологии нельзя прийти ни к каким результатам — ни в науке, ни в клинической практике. Когда делается операция, нужно знать, если речь идет об онкологическом процессе, насколько глубоко и куда проросла опухоль, есть ли опухолевый очаг в краях резекции, определить клиническую стадию. Кстати, в определении стадии онкологического заболевания последнее слово остается за морфологом. Он вносит очень большой вклад по поводу гистогенеза, степени дифференцировки, количественной оценки, глубины процесса.
Начиная с 1990-х годов очень много талантливых людей после медицинских институтов двинулось получать дальнейшее образование в хирургию. Это очень романтичная специальность, насыщенная, всегда на виду, вокруг нее всегда был и будет положительный ореол. И те, кто имел талантливые руки (и голову), выдвинулись. Чуть позже такие специальности, как терапия, онкология, гастроэнторология, гепатология, также стали набирать талантливых молодых специалистов.
А патологическая анатомия на этом фоне не видна, ее нельзя или очень трудно романтизировать для несведущего человека. Я участвую в международных конгрессах с 2003 года, всегда есть сессия, посвященная проблемам специальности. И 12 лет назад, и сейчас на этих сессиях говорится о том, что представление о патологической анатомии у обывателя мифологизировано, часто демонизировано и никак не связано с тем, что происходит на самом деле. Если набрать в Google слово pathologist, выдается результат о какой-то металлической группе, а очень многие люди считают, что патологоанатом — это тот, кто занят исключительно тем, что «режет покойников» и выдает свидетельство о смерти.
Да, вскрытие — это нужно и достаточно интересно. Но на энергетическом уровне это имеет какой-то деструктивный «высасывающий» эффект, от этой работы довольно быстро наступает выгорание. Во-первых, нет нужной мотивации — человек уже умер. Найдешь ты причину и окажется, что не так лечили или что сделать ничего нельзя было, — и что дальше? Во-вторых, патологоанатомическая служба не является независимой, а сам патологоанатом не является «арбитром». Не секрет, что если не занимаешься наукой и не связываешься плотно и много с прижизненной диагностикой, то появляется некая безысходность, ведущая к эмоциональному, творческому и профессиональному выгоранию. К счастью, сейчас есть все возможности развиваться, поэтому я всегда поощряю молодых коллег к занятиям наукой.
— Если есть, как вы говорите, возможности развиваться, значит, есть какая-то положительная динамика?
— В любом случае, надеюсь, что становится лучше. Естественно, все развивается, идет вперед. В целом есть тенденция к повышению качества диагностики, имиджу патологоанатома, понемногу, не так быстро, как хотелось бы, но есть.
Роль патоморфолога возрастает, так как именно он определяет, по какому протоколу пойдет тактика ведения того или иного пациента. Есть проблема, что не хватает квалифицированных специалистов. И могу сказать, что в Европе не сильно опередили нас. Сейчас появилась возможность применять современные методы диагностики, такие как иммуногистохимия, и у нас это уже во многих лабораториях рутинная практика. Есть сейчас очень хорошие лаборатории и в стране, и в Москве, есть возможность работать, но нужно популяризировать профессию, специальность. Без поддержки «сверху» я не вижу другого способа привлекать людей, кроме как своим примером и личной энергией.
Я работал в хороших лабораториях «брендовых» мест — РОНЦ им. Н. Н. Блохина (где стал кандидатом наук), ЦНИКВИ им. В. Г. Короленко, НИИ НХ им. Н. Н. Бурденко (во время работы, где выполнил докторскую диссертацию). Сейчас мне посчастливилось возглавить отделение в созданном недавно центре — МКНЦ. На новом месте приходится решать новые задачи, ранее мне незнакомые — подбор и управление персоналом, организация работы и так далее. Не все получается всегда так, как хочется, но руководство мне доверяет и, что немаловажно, поощряет инициативы.
— В каком направлении, по-вашему, будет развиваться патанатомия?
— Хочется верить, что будет все хорошо. Сейчас во всем отечественном здравоохранении переходный период, сложно делать выводы, надо пробовать понять эту линию и действовать в соответствии с ней. Я не могу сказать, что мне не нравится то, что происходит. Другое дело, что я не все понимаю. Но чем больше я понимаю, тем более разумным и логичным мне это кажется.
Профессия поликлинического врача тоже не очень романтизирована и престижна, поэтому необходимо показывать молодым специалистам, что эта работа тоже важна. В поликлиниках, в принципе, тоже есть условия для работы. Это просто другая специальность, она требует других профессиональных качеств.
— Каким должен быть патологоанатом?
— Во-первых, он должен сочетать в себе постоянное желание совершенствоваться и учиться, не стесняться сказать, что знает не все. Как мне говорил мой отец (тоже, кстати, патологоанатом): «Страшно и стыдно не тогда, когда кто-то что-то не знает, а когда не хочет знать». Надо сочетать в себе желание знать и глубоко и широко, потому что не бывает патологоанатомов-гинекологов, патологоанатомов-онкологов и так далее. Надо знать все обо всем, но при этом какие-то вопросы надо знать углубленно, с учетом профиля учреждения, в котором ты работаешь.
Конечно, патологоанатом — это не тот человек, который сначала делает, а потом думает, тут мысль должна опережать действия. Хотя у нас бывают срочные ситуации, когда в течение 10 минут у операционного стола надо сказать, что делать, и надо определиться с тактикой.
Например, в нейрохирургии часто встречаются опухоли, это может быть опухоль или метастаз. Если это метастаз, то его будут стараться удалить полностью. Если это первичная опухоль, то операцию проводят более щадяще и экономно, потому что потом есть возможность для химио- и лучевой терапии. Другой пример: присылают край резекции на предмет того, есть опухоль или нет, можно ли завершать операцию и ушивать по этому краю или нет. Если я дам ответ «нет», а опухоль будет, то через несколько недель швы в месте роста опухоли разойдутся и произойдет катастрофа. Если я начну страховаться и скажу, что опухоль есть, а на самом деле ее нет, то удалят еще больше тканей, чем нужно, или даже целый орган.
Здесь подход должен быть диалектический и многоплановый: нужно смотреть и анализировать клинические данные и ситуацию — нередко вплоть до личностных качеств того, кто оперирует. Есть разные хирурги, присылающие материал для срочного исследования: кто-то любит подстраховаться, есть, напротив, более смелые. Также и в нашей специальности — существует 2 подхода в диагностике. Первый называется «либеральный», и он характерен для большинства врачей старой советской школы. Переводя на простой язык: «лучше перестраховаться».
Второй подход «консервативный»: если нет стопроцентных уверенности и признаков наличия опасного заболевания, лучше об этом не писать. Я долгое время, будучи все-таки воспитанником советской школы, придерживался первого подхода и не понимал, как можно руководствоваться вторым. Потом как-то я был на курсах в Италии, где мне очень доходчиво объяснили, что психически травмировать человека тогда, когда ты не уверен, совсем не полезно для сохранения его здоровья, которое заключается в психическом и физическом комфорте, качестве жизни.
Нужно все время балансировать между этими двумя подходами, это очень важное качество для патоморфолога. У него есть время подумать, и он должен очень тщательно все взвешивать. Тут нужно иметь как аналитическое, так и синтетическое, индуктивно-дедуктивное мышление, нужно уметь ставить вопрос: «Если причина не в этом, то в чем?».
— Судя по тому, что вы рассказываете, патологоанатом — это прямо Шерлок Холмс...
— В какой-то степени да. Конечно, масштаб другой. Но в целом те, кто много лет отдал своей специальности, и находят в этом удовольствие: раскрутить, посмотреть, что это такое. Мы все время думаем, обдумываем. Хирургу, например, я считаю, это не так нужно. Ему важно знать и быть уверенным в том, что он все сделал правильно. Если он начнет «копаться», а все ли он правильно сделал, не забыл ли чего, он дальше просто не сможет работать.
Патологоанатом же — это человек, который часто себя «ест». Бывает, через много лет вспоминаются случаи, и думаешь: «Ага! Там, оказывается, было вот это!». Это профессиональная привычка — постоянно все сравнивать, анализировать. Я помню, я был ординатором, мне дали случай, я посмотрел — у меня картина прямо отпечаталась. И только сейчас я понимаю, что это было и как это трактовать. Нельзя избавиться от своего прошлого, все это постоянно в голове держишь. Картины, от которых можно абстрагироваться и прийти к общему, — это черта характера, психической конституции, необходимой для патоморфолога.
— Среди патологоанатомов много женщин?
— Сейчас да, и это тоже мировая тенденция. Моя супруга, тоже патологоанатом, переписывалась с коллегой из Франции. Он жаловался, что у него много женщин в подчинении: у двух были маленькие дети, две находились в отпуске по уходу за ребенком, сложно с ними управляться и работать (Улыбается.
)
— У вас в отделении проводят судмедэкспертизу?
— Нет, мы не занимаемся этим. Это совсем другая специальность. Несмотря на то, что вскрытия выглядят похожими со стороны у патологоанатомов и у судебных медиков, они отличаются. В судебной медицине больше необходимо установить причину смерти, поскольку часто смерть насильственная. Это можно определить сразу, а детально разбирать причину смерти в том случае, если она ненасильственная, не требуется.
Например, на заре своей карьеры я присутствовал на вскрытии у одного судмедэксперта. У умершей женщины болела голова, она принимала препарат типа парацетамола. Приняла около 30-40 таблеток, и у нее развился токсический гепатит, полностью разрушилась печень. На вскрытии было обнаружено кровоизлияние в мозг. Что послужило причиной смерти: печеночная недостаточность или отек мозга — это не особо интересовало судмедэксперта, поскольку он установил, что смерть была ненасильственная.
Работа патологоанатома, напротив, связана с лечебным процессом, это его финал. Секционный раздел связан с наиболее четкой формулировкой патологоанатомического диагноза. Он очень строго рубрифицирован и формализован, как то: основное заболевание, осложнение основного заболевания, сопутствующие заболевания. Эпикриз отражает, как развивалось заболевание, как оно протекало, какова была причина смерти. Патологоанатом сам проводит гистологическое исследование тканей трупа и исследует все изменения, которые вызывают подозрение.
— Как вы пришли в профессию?
— Это было достаточно тривиально. Я родился в семье врачей, мама — психиатр, папа — патологоанатом, поэтому я хотел быть как папа. Помню, как ходил на работу к нему, мне даже запахи лаборатории знакомы с тех пор. Я считаю, что это очень хорошо, особенно для мальчика, так как в подростковом возрасте большинство людей проходит через конфликт отцов и детей. У меня он, наверное, тоже был, однако не вырос в какой-то правополушарный или какой-либо еще бунт. Я считаю, что трудовые династии — это очень здорово. Правда, когда они перерастают в обычный протекционизм, это плохо.
— Ваша более узкая специализация — это онкология?
— Скажем так, это наиболее интересная для меня специализация. Работая в этом учреждении (МКНЦ), я понимаю, что патоморфология интересна и в других областях. В частности это различные гранулематозные поражения, инфекции, но я этого не касаюсь или касаюсь мало. У нас в центре очень интересная область — ВЗК (воспалительные заболевания кишечника). Когда возникают энтериты и колиты , они все протекают одинаково, но по своей сути это разные заболевания. То ли это язвенный колит , то ли это болезнь Крона , то ли это инфекционный колит, то ли лекарственный. Еще одну интересную, важную, но сложную область представляют диагностические пункционные биопсии печени при различных диффузных поражениях этого органа.
Сейчас стало понятно, что система TNN, применяемая в онкологии, это лучший прогностический признак, потому что Т1 очень сильно отличается от Т2, просто надо понять, что такое Т1 и Т2. Все это очень четко помогает различить разные стадии одной болезни. То есть методы диагностики онкологии хорошо экстраполировать на другие болезни. Это мышление из онкологии помогает, когда я смотрю на неопухолевые поражения других органов.
— Патанатомия касается трансплантологии?
— Да, конечно. К сожалению, после серии скандальных репортажей врачи до сих пор не могут прийти в себя и боятся, что их обвинят в трансплантации органов. Здесь, как и везде, очень низкий уровень информированности и много несведующих людей, падких на сенсации.
Трансплантология — это тоже один из интересных неонкологических аспектов в патологической анатомии. Например, возникла проблема с трансплантатом. Если это острое отторжение, то надо назначать иммуносупрессоры, чтобы его уменьшить. Если это какая-то инфекция в связи с применением иммунносупрессии, надо отменять иммуносупрессоры и давать антимикробные средства. Морфологически, могу заверить, даже для патологанатома, который много лет работал в этой области, но не сталкивался с этим, очень сложно отличить одно от другого.
— Можете вспомнить захватывающий случай из вашей практики?
— Не будет неправдой, если я скажу, что каждый день, проведенный мной в специальности, для меня захватывающий. Если же касаться случаев, «страшилок», типа того, что нашел во время вскрытия какие-то инструменты в теле, то я с таким за 17 с лишним лет работы не сталкивался. Вообще, это что связано со смертью — не «захватывающе», а очень грустно...
А вот в биопсийном материале было много приятных находок и открытий, это стимулировало к тому, чтобы развиваться. Несколько раз в других учреждениях ставился онкологический диагноз, а я не находил злокачественной опухоли, и люди буквально со слезами на глазах благодарили меня, и это лучшее вдохновение для специалиста моей профессии.
Работа покажется достаточно циничной, если со стороны наблюдать за человеком. В институте Склифосовского патанатомия и судебный морг были соединены. В те годы была еще программа «Дорожный патруль». Так вот, один мой коллега смотрел, что произошло, какие происшествия: аварии или убийства, а потом шел и сопоставлял, насколько сказанное по телевизору соответствовало реальности.
Каждый день происходит какой-то случай. Бывает, врачи могут перепутать, прислать что-то не то, приходится разбираться. Много курьезного... Хотя вообще работа врача серьезная, но можно и, наверное, следует относиться к ней с долей юмора.
Самый курьезный же для меня случай, пожалуй, это то, что я познакомился на работе со своей женой. Мы хоть сейчас в разных учреждениях работаем, часто приносим друг другу случаи, обсуждаем их, спорим и часто одергиваем друг друга, мол, хватит о работе говорить.
Патологоанатом – это врач, исследующий трупы с целью выявления (подтверждения, опровержения) какой-либо патологии (заболевания), приведшей к смерти. Несмотря на технический прогресс, в том числе в медицине, наличия в лечебных учреждениях высокотехнологичного оборудования и современных средств диагностики, не всегда при жизни больного удается вовремя выявить болезнь и поставить точный диагноз с целью назначения адекватного лечения.
Патологоанатом и судебно-медицинский эксперт – сходства и различия
Часто происходит путаница: обыватели считают, что патологоанатом и судебно-медицинский эксперт – это один и тот же специалист. Но это совсем не так.
Судебно-медицинскую и патологоанатомическую службу объединяет одно – исследование трупов и трупного материала. Далее пошли очевидные различия.
Судебно-медицинский эксперт исследует трупы людей:
- Только по направлению/постановлению правоохранительных органов (следствие, дознаватели, судьи, прокуроры, полиция). Иначе говоря, заказчиками судебно-медицинских экспертиз являются правоохранительные органы.
- Смерть насильственная (криминальная) или подозрительная на таковую. Т.е. к судебно-медицинскому эксперту попадают трупы людей, умерших от внешних причин (ножевое или огнестрельное ранение, отравление, переохлаждение, воздействие тяжелого тупого предмета и т.д.). Примечательно, что в понятие «смерть, подозрительная на насильственную» полиция может включать все случаи обнаружения тел дома или в другом месте без признаков жизни. Однако на вскрытии часто устанавливается причина смерти от заболевания, а не от внешних факторов. Потому доля вскрытий, выполненная судебно-медицинскими экспертами, из года в год растет, а процент скоропостижной (ненасильственной) смерти доходит до 80% от всех исследований (экспертиз).
- С повреждениями, подозрительными на ятрогенные (причиненные медицинскими работниками). Врачебные ошибки и халатность врачей, увы, неизбежны. Потому необходимо разобраться, по какой причине возник дефект оказания медицинской помощи больному: объективным (недостаточная оснащенность, тяжесть и скоротечность состояния, кратковременность пребывания в лечебном учреждении) или субъективным (невнимательность, недостаточная квалификация, небрежное отношение к работе).

Патологоанатом исследует трупы людей, умерших:
- Ненасильственной смертью (только от заболеваний);
- В лечебном учреждении (больнице). При каждой больнице есть хоть один штатный патологоанатом.
- Патологоанатом исследует не только труп человека, но и готовит вырезки с микропрепаратами кусочков тканей для осмотра под микроскопом. Это позволяет оценить картину заболевания на макро- и микроскопическом уровнях.
К тому же, патологоанатом может работать и с тканями живого человека. Например, после операции взяли часть ткани молочной железы для определения наличия раковых клеток. От заключения патологоанатома в данном случае зависит прогноз для здоровья человека и объем дальнейшего оперативного вмешательства.

Рассмотрим достоинства и издержки профессии патологоанатома:
Очевидные плюсы
- Первое и самое главное достоинство – практически 100%-ая достоверность поставленного диагноза . Такая высокая она потому, что врач видит внутренние органы и ткани в натуральную величину. Какие они есть, собственными глазами. Не секрет, что рентгеновский аппарат, магнитно-резонансный томограф, ультразвуковой датчик или компьютерный томограф имеют некоторые погрешности в воспроизведении и преобразовании получаемого изображения. Это неизбежно, тут задействованы законы физики и поглощающая способность тканей человека. Даже при высоком качестве получаемой картинки (например, на МРТ) никто не даст стопроцентной гарантии отсутствия микроскопических опухолевых очагов. А при УЗИ и рентгенологическом исследованиях тени и рисунок внутренних органов наслаиваются друг на друга. Только очень опытный врач лучевой диагностики может достоверно сказать о состоянии органа на снимке.
- Второе достоинство – обнаружение ранее не выявленной патологии . Многие болезни клинически никак себя не проявляют. Человек может жить несколько лет с гепатитом и не подозревать, что его печень постепенно разрушается. Или спортсмен может заниматься активными тренировками, а врожденная кардиомиопатия (патологическое расширение полостей сердца) с липоматозом (отложением липидов) в миокарде даст о себе знать через несколько лет после окончания спортивной карьеры. Тело может рассказать о человеке гораздо больше, чем человек о себе сам. Бывает, что врач, узнав только на вскрытии о наличии определенной патологии у умершего, задается вопросом: «А как он с эти жил?».
- Возможность очень детально и всесторонне изучить выявленный патологический процесс в органах – визуально и под микроскопом.
Досадные минусы
- Самый печальный недостаток – работа с биологическим материалом, который может быть заражен. Увы, не редкость передача через кровь (порезы) вирусов гепатита. К тому же, вскрывая труп больного, умершего от туберкулеза, велик риск с вдыхаемым воздухом получить в легкие микобактерию туберкулеза. Заражение ВИЧ-инфекцией посредством вскрытия трупов, к счастью, маловероятно, поскольку вирус иммунодефицита быстро погибает после умирания с началом охлаждения тела.
- Эстетическая и санитарская точка зрения. Вскрывать внутренние органы, исследовать полости тела, осуществлять взятие крови – дело не очень приятное глазу и носу. Вымазаться в крови и кале для врача-патологоанатома – типичное каждодневное дело.
В любом случае, неинтересных профессий не бывает, особенно в области медицины.
Врачи-патологоанатомы большинству обывателей представляются не иначе как здоровенными бородатыми дядьками в окровавленных фартуках, настолько суровыми, что могут на вскрытии держать нож в одной руке, а бутерброд с ливерной колбасой - в другой .
Улыбчивая девушка, врач-патологоанатом с семилетним стажем Ольга Конопляник , развеивает для читателей сайт это и другие заблуждения о своей профессии.
"Вскрытие - процесс творческий!"
Патологоанатомы - люди чуткие: никогда не режут по живому. (с)
"Вопреки расхожему мнению, работа врача-патологоанатома вовсе не заключается в том, чтобы целыми днями стоять над секционным столом и неустанно резать умерших людей. Сейчас в нашей практике вскрытий становится все меньше - они занимают, наверное, всего около 10% работы врача. Да, может быть и по 2-3 вскрытия в день, но бывает и ни одного.
Родственники умерших, конечно, не всегда рады вскрытию, иногда дело доходит до истерик… Но с другой стороны, всем ведь хочется, чтоб их хорошо лечили, чтоб врачи досконально знали болезни и их проявления. А вскрытие - это и наиболее точный диагноз, и возможность (прежде всего лечащим врачам) взглянуть "изнутри" на результаты своего труда, найти возможные ошибки и в будущем - способы их избежать.
Вообще, вскрытие - процесс творческий, требующий немалого напряжения ума, логики и даже фантазии. Случается, что причина смерти не лежит на поверхности, - тогда привлекаются дополнительные методы исследования, всегда обязательно последующее микроскопическое исследование кусочков органов и тканей. Иногда нужен не день и не два, чтобы диагноз "созрел" и оформился в адекватное заключение о причинах смерти. Так что это в каком-то роде даже похоже на детективное расследование.

Сам по себе процесс вскрытия некогда живого человека многим представляется чем-то из разряда фильмов ужасов. В реальности все проще, спокойнее. Обычно всю "грязную" работу в нашем случае делает санитар, то есть извлекает комплексом все органы, после работы врача укладывает их обратно и готовит тело к погребению. Это хорошая помощь, хотя большинство врачей все-таки имеют и опыт самостоятельного извлечения органокомплекса".
"Почти каждый второй ЖИВОЙ пациент проходит через руки и глаза патологоанатома"
"Второй раздел работы патологоанатомов, несоизмеримо больший, и важность его переоценить просто невозможно, - это исследование биопсий. То есть взятие кусочков органов, тканей или образований у живых пациентов. Плюс исследование под микроскопом всего операционного материала: а это удаленные органы (аппендикс, матка, желчный пузырь и т.д.), опухоли всяческие... Здесь наша задача - опять-таки точный диагноз. Количество таких исследований исчисляется сотнями тысяч в год на область.
И далеко не каждый больной знает, что диагноз-то ему ставит патологоанатом, и только после этого врачи других специальностей на основании нашего заключения назначают лечение. А когда говоришь, что почти каждый второй пациент проходит через руки и глаза патологоанатома, то верят очень немногие и все-таки предпочитают не сталкиваться с нами при жизни, хотя наверняка уже побывали под "зорким оком" кого-то из нас.

Еще бывают в нашей практике срочные биопсии (интраоперационные) - на них нам дается 15-20 минут, а пациент в это время ждет на операционном столе результат, от которого может зависеть дальнейший ход операции и чья-то судьба.
Вообще, биопсийная работа эмоционально гораздо более напряженная, чем вскрытие, ведь твое заключение может кого-то успокоить, кому-то может стоить жизни, кому-то подарит надежду, а кому-то принесет море слез, и волей-неволей триста раз подумаешь над тем, что видишь в микроскопе".
"Между прочим, эта профессия довольно популярна!"
"Мое желание стать именно врачом-патологоанатомом возникло спонтанно, где-то на третьем курсе медвуза, и оформилось, когда нас, студентов, сводили на вскрытие. Потом был сложный путь распределения - и вот она, цель, достигнута.
Конечно, многие знакомые, да и не все родственники, понимают такой "странный" выбор... Да еще для девушки. Кое-кто до сих пор надеется, что я изменю специальность. Но большинство, в том числе родители и муж, воспринимают профессию вполне адекватно. А тем, кто относится предвзято, проще сказать, что я на фабрике конфетки в коробочки укладываю, тогда и запах шоколада от меня послышится, а не какой-то другой.

Профессия патологоанатома, кстати говоря, очень даже популярная, несмотря на жуткие представления и далеко не самую высокую зарплату… На шестом курсе среди будущих выпускников-медиков всегда находится не один желающий, но не у каждого получается попасть в наши ряды. Ведь здесь нужно быть отличным специалистом во всех областях, разбираться буквально во всех болезнях, обладать стрессоустойчивостью и хорошей интуицией. И, что характерно, лично я примеров ухода врачей из этой профессии в другие специальности пока не знаю, а это говорит о многом".
"Мы - не "мясники"!"
Большинство моих коллег - очень жизнерадостные, добрые, со здоровым чувством юмора люди, весьма образованные, читающие, грамотные, интересные и разносторонние. И обижает, когда представляют нас в роли "мясников", копающихся абы в чем. А еще говорят, что все мы как один выпиваем от такой жизни, и в голове у нас, мол, что-то не так устроено, раз на такую работу согласны…
Еще одно распространенное заблуждение - то, что от нас пахнет всякими мерзостями и мы этот запах с собой приносим домой. Ну это же просто смешно! В морге, как правило, чисто и светло, плитка вовсе не заляпана кровью, а запах ничем не хуже, чем в любом другом отделении медучреждений. Если патологоанатом все делает аккуратно и правильно, "с чувством, с толком, с расстановкой", то получается, как раньше говорили, "анатомический театр", где можно получить ответы на многие вопросы, а вовсе не кровавые ужасы. Более того, вскрываем мы лишь тех пациентов, которые умерли в пределах больницы, а значит, с изуродованными, долго лежавшими и другими сталкиваться не приходится. Это удел судебно-медицинской экспертизы, в этом отношении - чего уж скрывать - у нас работа почище".
 |
"Пауков я боюсь больше, чем мертвых"
"Как относиться к умершим? Лишние эмоции вряд ли уместны. Да и нужны ли? Раздумывать о судьбе, жизни умершего или особенностях его характера не приходится. На это нет времени, да и нервы свои лучше поберечь, над каждым ведь не поплачешь.
А своих родственников или знакомых, конечно, никто вскрывать не станет - это и неэтично, и нечеловечно по отношению к врачу в первую очередь, поэтому всегда есть коллеги, которые могут помочь в такой нелегкой ситуации.
Меня часто спрашивают, не снятся ли мне трупы или кошмары по ночам. Ну, что ответить? Вот если человек пряники 12 часов в сутки фасует, они же могут ему присниться? Так и у нас. Что-то может присниться, тем более, если вынашиваешь мысленно какой-то диагноз или размышляешь над интересным случаем. А мертвых я не страшусь. Гораздо больше боюсь темноты, воды, пауков и жуков всяких.

И менять свою работу на другую ни за что не хочу! Труд, конечно, не из легких: постоянно нужно что-то читать, постоянно возникают вопросы, каждый день можно что-то новое увидеть или очень редкое, есть риск столкнуться с какой-нибудь инфекцией или травмироваться (все, как у врачей других специальностей)… Но зато это очень интересно, здесь есть огромное пространство для творчества и получения удовлетворения от своего труда. А это именно то, к чему я стремилась, выбирая работу врача!"
Понравилась статья? Пусть и другие порадуются - жми на кнопку любимой соцсети и делись интересными новостями с друзьями! А мы напоминаем, что будем счастливы видеть тебя в наших группах, где каждый день публикуем не только полезное, но и смешное. Присоединяйся: мы
Патологоанатомическое отделение (синоним прозектура) - это часть больницы (клинического учреждения), где производят вскрытие трупов для определения характера патологического процесса, причин смерти больного и сопоставления найденных изменений с данными прижизненного клинико-диагностического исследования. Здесь же органы и ткани трупа изучают микроскопически, а при необходимости подвергают гистохимическим, бактериологическим и другим специальным исследованиям. Кроме , исследуют ткани и органы, удаленные у больных с лечебной целью или для уточнения клинического диагноза (см. Биопсия).
Патологоанатомическое отделение осуществляет контроль за лечебно-диагностической работой в больнице или клинике, способствует повышению квалификации лечащих врачей путем обсуждения трудных для диагностики случаев на клинико-анатомических конференциях. В патологоанатомическом отделении проводится также научно-исследовательская работа.
Штат патологоанатомического отделения состоит из врачей-прозекторов (научных сотрудников), лаборантов и санитаров. Лаборанты осуществляют регистрацию доставляемых трупов и биопсийного материала, оформляют патологоанатомическую документацию (протокол вскрытия, заключение по биопсии), готовят гистологические препараты (см. Гистологическая техника), помогают врачам в организации музея макро- и микропрепаратов. Старший лаборант ведает получением, хранением, приготовлением и выдачей реактивов, инструментов и оборудования. Санитары помогают во время вскрытия, бальзамируют и одевают и выдают его родственникам под контролем лаборантов и врачей.
Помещение патологоанатомического отделения состоит из секционной, где производят вскрытие (см.), гистологической лаборатории, комнат врачей и подсобных помещений. В патологоанатомическом отделении должен быть водопровод с холодной и горячей водой, канализация, вентиляция, душ и холодильная камера для хранения трупов. Секционная должна быть светлой, просторной (не менее 15 л»2 на каждый секционный стол), облицованной кафелем для обеспечения влажной уборки и дезинфекции. Для хранения трупов больных, умерших от инфекционных заболеваний, должны быть специальные отдельные помещения с изолированным выходом. См. также Морг.
Патологоанатомическое отделение (синоним прозектура, от лат. prosecare - рассекать) - часть лечебного (научно-исследовательского) учреждения, в котором производят макро- и микроскопические, а при наличии специальных кабинетов- бактериологические, химические и рентгенологические исследования трупов, морфологическое исследование материалов операций и биопсий.
В дореволюционной России прозектур было мало, сосредоточены они были главным образом в крупных городах и только с развитием земской медицины начали открываться прозектуры при крупных земских больницах, а в начале 20 века и в ряде губернских городов.
Уже с первых лет советской власти отмечается рост числа патологоанатомических отделений в крупных городах и на периферии. В 1919 г. в Москве по инициативе А. И. Абрикосова была создана Комиссия прозекторов при Московском городском отделе здравоохранения, разработавшая под руководством И. В. Давыдовского ряд документов, регламентирующих работу патологоанатомических отделений, форму прозекторского отчета и единую для лечебных учреждений Москвы карточку сличения клинических и анатомических диагнозов, послужившую образцом для аналогичных карточек по СССР. Такие же комиссии были созданы в Ленинграде и других городах.
В дальнейшем было издано положение о прозектурах, ставших официально именоваться патологоанатомическими отделениями больниц, а прозектор - заведующим патологоанатомического отделения на правах заведующего отделением больницы.
Задачи патологоанатомических отделений: установление причин и механизма смерти больного с выявлением природы заболевания; выявление при вскрытии острозаразных эпидемических заболеваний; заключения по материалам операций и биопсий (см.); расширение знаний врачей путем совместного обсуждения на клинико-анатомических конференциях (см.) результатов вскрытий (см.) и постоянной консультативной помощи по вопросам патологии; совместный с клиницистами научный контроль над диагностической и лечебной работой при сопоставлении клинических и анатомических диагнозов; научное изучение и разработка поступающего материала.
Работа патологоанатомических отделений в СССР регламентируется приказами и инструкциями МЗ СССР. В них определены практические задачи, которые должны решаться патологоанатомическими отделениями, и указана важность научно-исследовательской деятельности этих отделений.
Патологоанатомическре отделение может обслуживать несколько лечебных учреждений, не имеющих своих патологоанатомических отделений; существуют также центральные городские патологоанатомические отделения, обслуживающие несколько лечебных учреждений.
Характер, объем работы патологоанатомического отделения тесно связаны с профилем лечебного учреждения. В связи с этим организация и условия работы в патологоанатомических отделениях различных лечебных учреждений имеют свои особенности.
Так, в больницах смешанного типа в настоящее время вскрытий больше, чем в больницах детских, инфекционных. В родильных домах подавляющее большинство вскрытий относится к недоношенным и мертворожденным.
При патологоанатомическом отделении создаются музеи макро- и микроскопических препаратов, используемых в педагогической работе лечебного учреждения.
Во главе отделения стоит заведующий (прозектор), обладающий большим практическим опытом. По своему служебному положению прозектор подчинен главному врачу больницы. Число штатных работников патологоанатомического отделения устанавливается по штатным нормативам, обычно соответственно количеству коек в лечебном учреждении и количеству исследований биопсий. Из лаборантов одного назначают старшим; он ведает получением и хранением реактивов и вместе с заведующим распределяет работу между остальными лаборантами.
В настоящее время при проектировке новых больниц для патологоанатомического отделения предусматривается отдельное здание по типовым проектам МЗ СССР.
Санитарно-гигиенические нормы патологоанатомических отделений регламентированы специальным постановлением МЗ СССР.
Помещение патологоанатомического отделения состоит из секционной, где производят вскрытия, лабораторных помещений, в которых подготовляют и обрабатывают материал для секций и биопсий; кабинетов заведующего и врачей и из ряда подсобных помещений: предсекционной, комнат хранения и выдачи трупов, комнаты ожидания для родственников умерших, инвентарной, раздевальни для сотрудников с индивидуальными шкафами и др. Для хранения и выдачи трупов умерших от инфекционных заболеваний выделяют изолированные комнаты с отдельным выходом на улицу.
Патологоанатомическое отделение должно быть снабжено холодной и горячей водой, благоустроенной канализацией, хорошо функционирующей вентиляцией, а также установкой для хранения трупов при пониженной температуре. При хранении трупов в цокольном или полуподвальном помещении для поднятия их в секционную и обратного спуска необходим лифт. Секционная должна удовлетворять трем основным условиям: свободные и хорошо освещенные солнечным светом места для вскрытия, удобные и достаточные по размерам места для врачей и студентов, присутствующих при вскрытии, удобный подход к секционным столам с носилками и каталками. Секционная располагается обычно на первом этаже. Площадь ее зависит от количества секционных столов (не менее 15 м 2 на один стол в небольших больницах и 25 м 2 в клинических). Пол и стены облицованы кафельными плитками. К секционным столам и к двум большим четырехугольным раковинам должна быть подведена холодная и горячая вода. В больших лечебных учреждениях может быть несколько секционных - большая, малая и для трупов умерших от инфекционных заболеваний.